Это заметки о работе сценариста изнутри и снаружи. Их пишу я, Юлия Идлис, сценарист сериала «Фарца», фильма «Бег», игры X-Files: Deep State (по сериалу «Секретные материалы»), и т.д. Хотите поговорить об этом - пишите @arienril.
Информация о канале обновлена 16.11.2025.
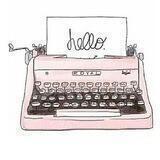
 Показать ещё
Показать ещё
