ИИ-поисковик: как пользоваться Perplexity
В новом гайде объясняем, как зарегистрироваться в Perplexity и начать использовать эту нейросеть для повседневных задач и работы с научными источниками.
Что за Perplexity?
Perplexity AI — это поисковая система на основе искусственного интеллекта (ИИ). Использовать ее можно для как для обычных, так и для учебных или исследовательских задач.
Как её использовать?
Если вы хотите спросить нейросеть о чем-то повседневном (например, порекомендовать вам фильм), советуем режим быстрого поиска.
А для более сложных вопросов, связанных с исследованиями, лучше активировать режим глубокого поиска. В этом режиме нейросеть формирует ответ дольше, но с большей точностью.
Можно еще и установить дополнительный фокус — настроить Perplexity на поиск только по академическим источникам и дополнительно изучить ссылки на них.
Больше информации о возможностях нейросети и примеры запросов найдете в гайде на сайте.
Этот материал — часть нашего спецпроекта «ИИ-лайфхаки для вашей профессии». Подробнее о других задачах читайте в разделе «ИИ для исследователей».
🤖 «Системный Блокъ» @sysblok
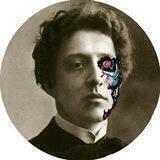
 Показать ещё
Показать ещё
