⏳В ожидании 3-й Всероссийской конференции по схема-терапии: интервью и эфиры, которые стоит посмотреть
До Конференции по схема-терапии остаётся совсем немного времени. Мы собрали для вас подборку видео и интервью с нашими экспертами — те самые разговоры, которые звучали в последние месяцы и уже создали особую атмосферу ожидания и профессионального вдохновения.
Эти видео — о подходе, о людях, о поддержке и смыслах, которые объединяют наше сообщество❤️
🟠Сертификация ISST и международное сообщество
Александра Ялтонская, Александр Еричев и Денис Московченко делятся опытом участия в международном сообществе и рассказывают, как устроен процесс сертификации ISST.
Разговор о профессиональном росте, международных возможностях и пути, который объединяет схема-терапевтов по всему миру.
🔗Смотреть эфир
🟠Интервью с Александрой Ялтонской
Соосновательница МИСТ говорит о том, почему Конференция — событие, которое нельзя пропустить. О живых встречах, новых практиках и смысле слогана «Объединяющая сила схема-терапии».
Это видео — приглашение почувствовать энергию профессионального единения и обновления.
🔗Смотреть интервью
🟠Одиночество терапевта: как не оставаться один на один с профессией
Поддерживающий прямой эфир с Натальей Гегель и Марией Соколовой.
О том, как терапевту сохранять контакт с коллегами, где искать опору и как справляться с первыми признаками выгорания. В эфире — тёплая атмосфера, практические упражнения и напоминание, что мы не одни.
🔗Смотреть запись
🟠Схема-терапия как система координат терапевта
В интервью Наталья Гегель, соосновательница МИСТ, рассказывает, как схема-терапия помогает видеть целостную картину и объединять разные подходы.
А ещё о значении очных встреч, масштабе конференции и развитии сообщества.
🔗Смотреть интервью
🟠Дарья Марьясова — о живом взаимодействии и поддержке
Что делает профессиональные встречи по-настоящему живыми и ресурсными?
Дарья Марьясова делится ожиданием конференции, рассказывает о скилл-классе по преднамеренной практике и «волшебстве взаимодействия», которое рождается, когда терапевты встречаются лично.
🔗Смотреть интервью
🟠За кулисами конференции: интервью с Марией Скрябиной
Мария Скрябина приоткрывает закулисье подготовки конференции: творческие форматы, флешмоб, вечерние активности и атмосферу живого общения.
Также о своём скилл-классе «Рескриптинг с сюрпризом» и о том, как использовать трудности в терапии как материал для роста.
🔗Смотреть интервью
Каждое из этих видео — часть общего разговора о том, как схема-терапия помогает не только клиентам, но и нам, специалистам, находить опору и смысл в профессии.
Живое общение, новые идеи и ещё больше вдохновения — всё это ждёт нас уже совсем скоро.
Увидимся на конференции по схема-терапии уже 20 ноября — до встречи!🤗g>


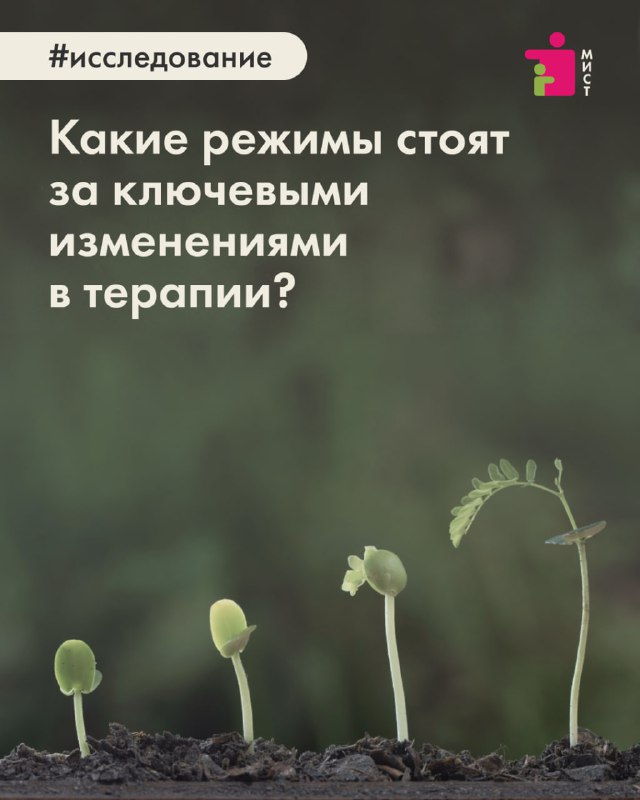
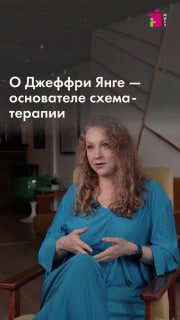
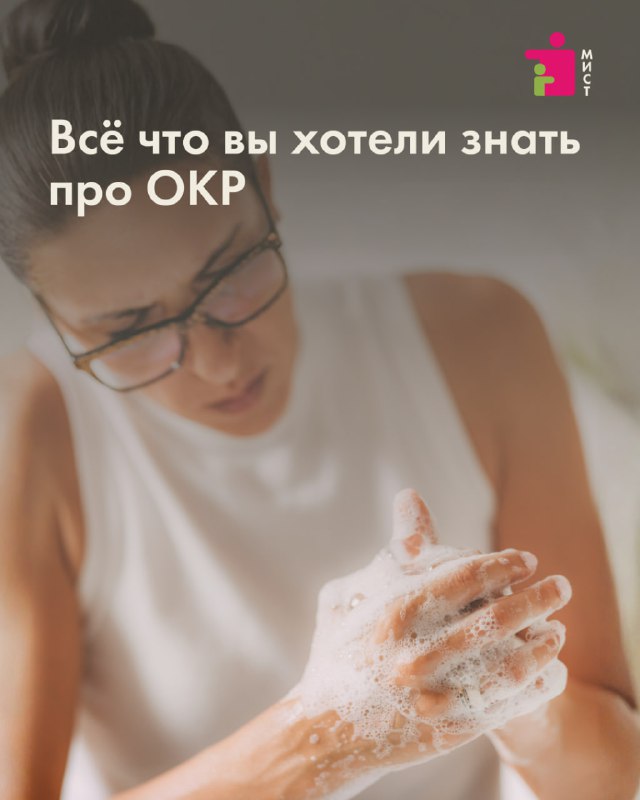


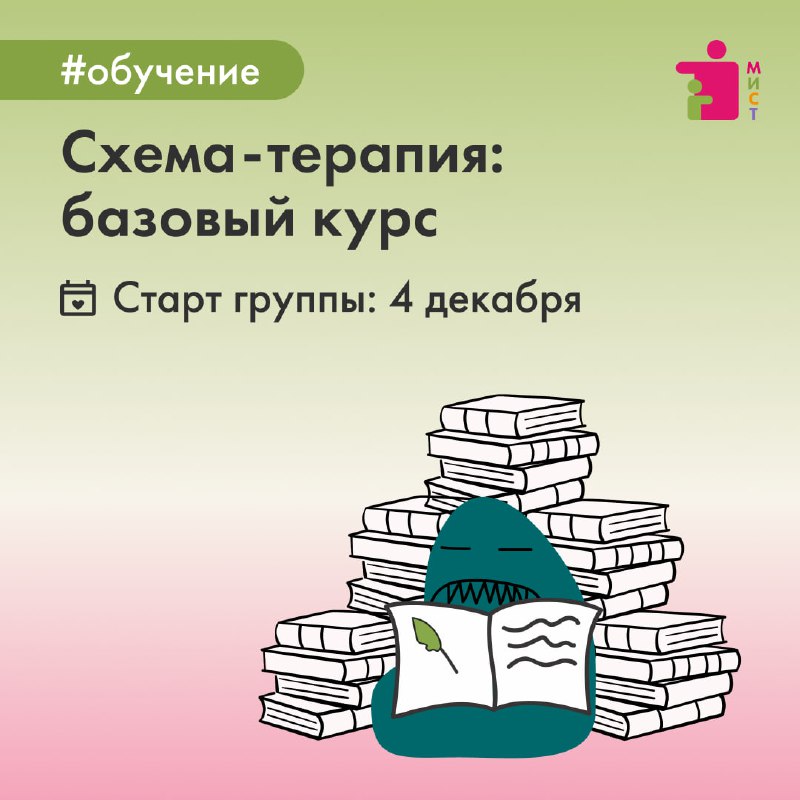
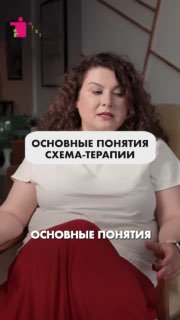
 Показать ещё
Показать ещё
